Юрий Леж - Искажение[СИ, роман в двух книгах]
— Ну, пускай высылают твои часы, — согласился Чехонин. — Посмотрю на досуге, что с ними можно сделать. Досуга-то у нас тут у всех — до Страшного Суда…
И, не дожидаясь ответа, привычно пошагал по пробитой в снегу тропинке за небольшой перелесок в полукилометре от колючки. Солдат, позабыв затворить калитку, смотрел ему в спину, обтянутую серым, казенным ватником, и думал, что и среди заключенных попадают приличные люди, не только оторви и брось по лагерям мотается, да всякая шпана и убийцы. Вот тот же Часовщик, человек для всех авторитетный, а не брезгует простому молодому солдатику помочь. Поможет — не поможет, уже дело третье, а готовность высказал, можно сказать, уважение проявил.
А Чехонин уже забыл, выбросил из головы этот разговор с солдатиком, ведь помогал людям он не от душевной щедрости или природной тяги к благодеяниям, а от простой лагерной скуки, чтобы скоротать бесконечное время отсидки. И, шагая по жесткому и рыхлому, чуть хлюпающему под ногами сыростью снегу, он забормотал себе под нос: "Вот идет за вагоном вагон, С мерным стуком по рельсовой стали, С пересылки идет эшелон Спецэтапом в таежные дали…" Как большинство безголосых людей, Часовщик петь любил страстно, но делал это чаще всего наедине с собой, да и то негромко.
Он успел дважды наговорить слова этой песенки, почему-то полюбившейся в лагере в последнее время всем зекам, пока тропинка в снегу не привела на небольшую полянку, вернее сказать, пологий овражек, густо обросший кустарником. В летнюю пору, которую Часовщик не застал в лагере, наверное, вся эта прогалинка полностью скрывалась от глаз, но сейчас, сквозь голые ветви кустов отчетливо было видно и нетронутый снег по краям, и тропу, ведущую к невысокому срубу колодца, изготовленному из серого, угловатого железобетона. Крышка на колодце была под стать срубу — тяжелая, массивная, внушительная. На боку её, прикрытая жестяным козырьком, виднелась обыкновенная кнопка звонка, будто бы на дверях в квартиру где-нибудь в Москве или Петрограде.
Чехонин, подойдя к колодцу, трижды нажал на кнопку, оповещая своего сменщика о прибытии, а потом, скинув прямо на снег небольшую заплечную котомку, принялся орудовать рычагом домкрата, приподнимающего крышку. Конечно, при необходимости проделать эту операцию можно было и с помощью мощных электромоторов, причем, как снаружи, так и изнутри, но, во-первых, по указанию начальства, а, во-вторых, по фронтовой еще привычке, Часовщик предпочитал беречь механизмы. У любого из них ограниченный ресурс, а человек — что ж, отдохнет и снова готов к применению…
В мрачной бездне открывшегося колодца, у самого его края, дальше не позволяла кромешная темнота, виднелись грубоватые металлические скобы, вмурованные прямо в бетон и служащие лестницей.
В глубине мелькнул слабый свет, и невнятный, неузнаваемый голосок выкрикнул:
— Ты что ли, Часовщик? Что у нас там сегодня?
— Ганновер, — сложив руки рупором и склонившись над краем колодца, ответил Чехонин.
Город Победы, в котором была поставлена последняя точка в войне с германцами, в качестве пароля употреблялся редко, но сегодня выпал именно он.
— Тогда слазь потихоньку, — пригласил Часовщика голос снизу.
— А то без тебя не знаю, лезть мне или туточки подождать, — проворчал себе под нос Чехонин, начиная спуск.
Через пару десятков метров колодец окончился небольшой, овальной комнаткой с невысоким потолком. В углу стоял, дожидаясь сменщика, в чем-то похожий на Чехонина человечек, такой же невысокий, сухонький, в лагерном бушлате и казенных штанах.
После почти нулевой, весенней температуры на поверхности, колодец обжигал морозцем, и Часовщик невольно поежился.
— Держи хомут, — протянул ему коробку полевого телефона сменщик.
Они так называли не только сам телефон, но и обязательную к нему небольшую по размерам катушку провода, подвешиваемую на спину. Без трубки дежурному запрещалось передвигаться по тоннелю. А куда вел провод, уходящий в пробитое в стене дежурки отверстие, никто не знал. Иной раз на пост звонили какие-то люди, требуя уточнить показания многочисленных приборов, развешанных по стенам тоннеля, иной раз — кто-то из лагерного начальства осведомлялся, все ли в порядке на объекте. Чехонину казалось, что в один прекрасный момент, сняв трубку и представившись по установленной форме, он услышит глубокий старческий голосок с неистребимым акцентом, выговаривающий: "Ну, здравствуйте, гражданин. Как обстоят дела? Все ли нормально?"
— Дежурство сдал, дежурство принял, — хмыкнул Часовщик, прилаживая на спину катушку. — Давай фонарь и ступай с Богом…
Фонарик, которым пользовались дежурные, был еще одной "загадкой природы". Маленький, помещающийся в ладони, он давал отличный яркий свет, не требовал батарей и, казалось, был под завязку наполнен энергией. Его можно было оставлять включенным на сутки-двое, и он на исходе такой неформальной проверки по-прежнему светил ярко и стабильно. Всегда интересовавшийся новинками техники Чехонин давно хотел переговорить с "кумом" насчет этого "чуда", да как-то не получалось.
Выставив маленьким реостатом мощность фонарика на максимум, Часовщик подсветил снизу скобы, по которым уже начал карабкаться сменщик. Хотя бы и чуток, но с подсветкой снизу веселее было ползти вверх — к дневному свету. Дождавшись, пока не захлопнется наглухо крышка колодца, отрезающая его от всего мира на целые сутки, Чехонин отправился по холодному заполненному естественной, первородной тьмой тоннелю в дежурку.
Кто и когда прорубил, да и прорубил ли эти тоннели в вечной мерзлоте не знал никто ни в лагере, ни за его пределами. Современный уровень горнопроходческой техники и даже самые оптимистичные прогнозы на будущее не позволяли даже предположить, что это могли сделать люди. Но, как обычно, не зная кто и зачем сотворил то или иное природное чудо, народ приспособил его под свои нужды, да так, как обычно приспосабливают подсобные рабочие микроскоп: для забивания гвоздей. Дышащие вечным холодом стенки тоннеля были обвешаны загадочными и очень ценными, если верить начальству, приборами и аппаратурой, в которых доступными для понимания были лишь градуированные циферблаты. Вот за их показаниями и следили постоянно находящиеся на глубине дежурные из числа заключенных. Регулярно, раз в два часа, они совершали обход своего полукилометрового участка, ограниченного резким сужением тоннеля с одной стороны и обрывом в бездну — с другой. А оставшееся время коротали в "дежурке", будто специально для этих целей вырубленной нише размером три на три метра. Туда, в дежурку, затащили топчан, на котором можно было подкемарить до той поры, пока очередной телефонный зуммер не поднимет с лежанки и не направит в темноту нерукотворного лабиринта. Там же стояли и автомобильные аккумуляторы, запитывающие летные спецунты с электроподогревом. А вот разжиться таким же костюмом для высотных полетов лагерному начальству всё никак не удавалось, да и, кажется, на него уже махнули рукой, мол, зеки — не летчики-высотники, пересидят сутки в бушлатах и ватных штанах, как обычно. Ведь в таком же одеянии они валили лес в иных лагерях при температуре ничуть не выше тоннельной, да еще на ледяном ветру. Правда, от той точности, с которой дежурный доложит показания того или иного прибора, говорят, зависело очень многое, но… где-то там, неизвестно где… а вот простуженный на лесоповале зек просто не мог выполнить норму, что в итоге отражалось и на нем самом, и на всей бригаде, а иной раз — и в целом на лагере. Жизнь и здоровье человеческое после войны начали ценить особо, невзирая на ранг и положение человека в обществе.
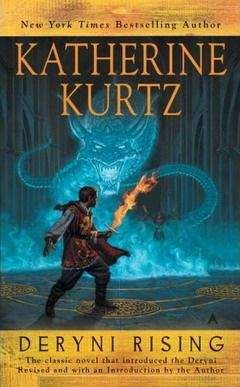
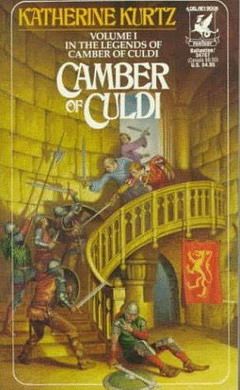
![Кэтрин Куртц - Дерини. Трилогия [ Возрождение Дерини. Шахматы Дерини. Властитель Дерини]](/uploads/posts/books/60811/60811.jpg)

![Кэтрин Куртц - Хроники Дерини.Книга 1. [ Возвышение Дерини.Шахматная партия Дерини]](/uploads/posts/books/57013/57013.jpg)